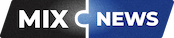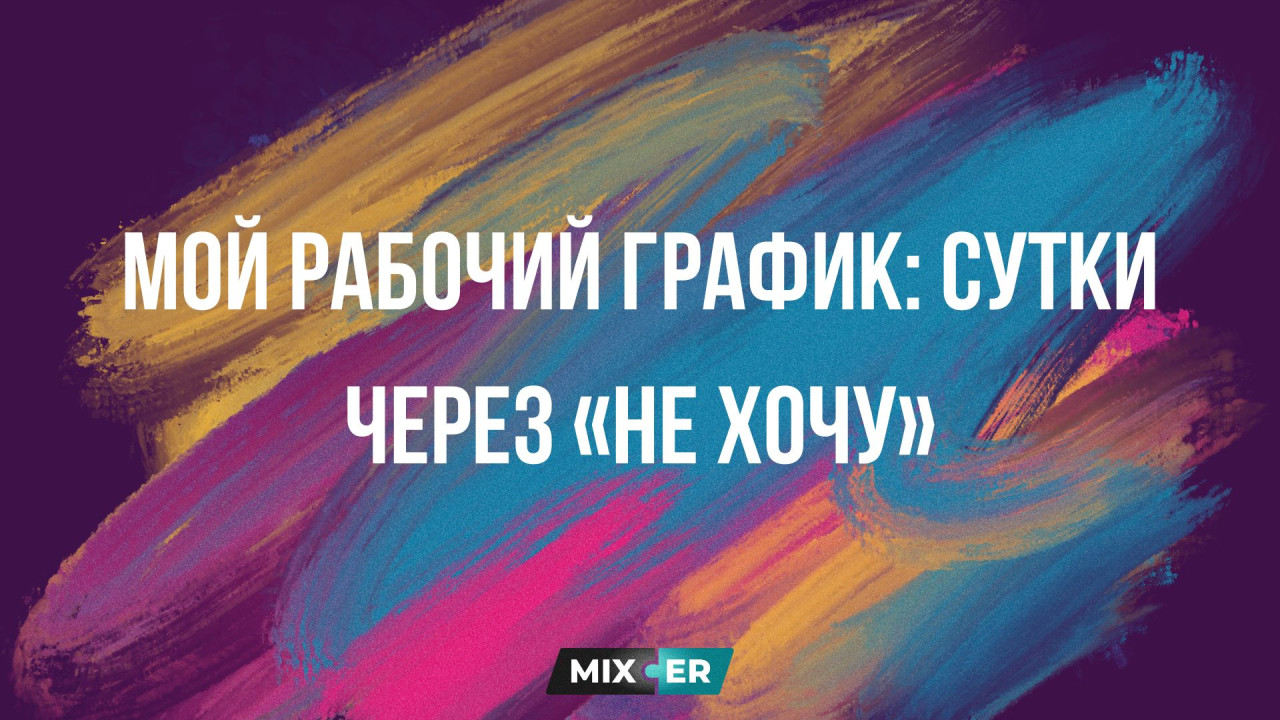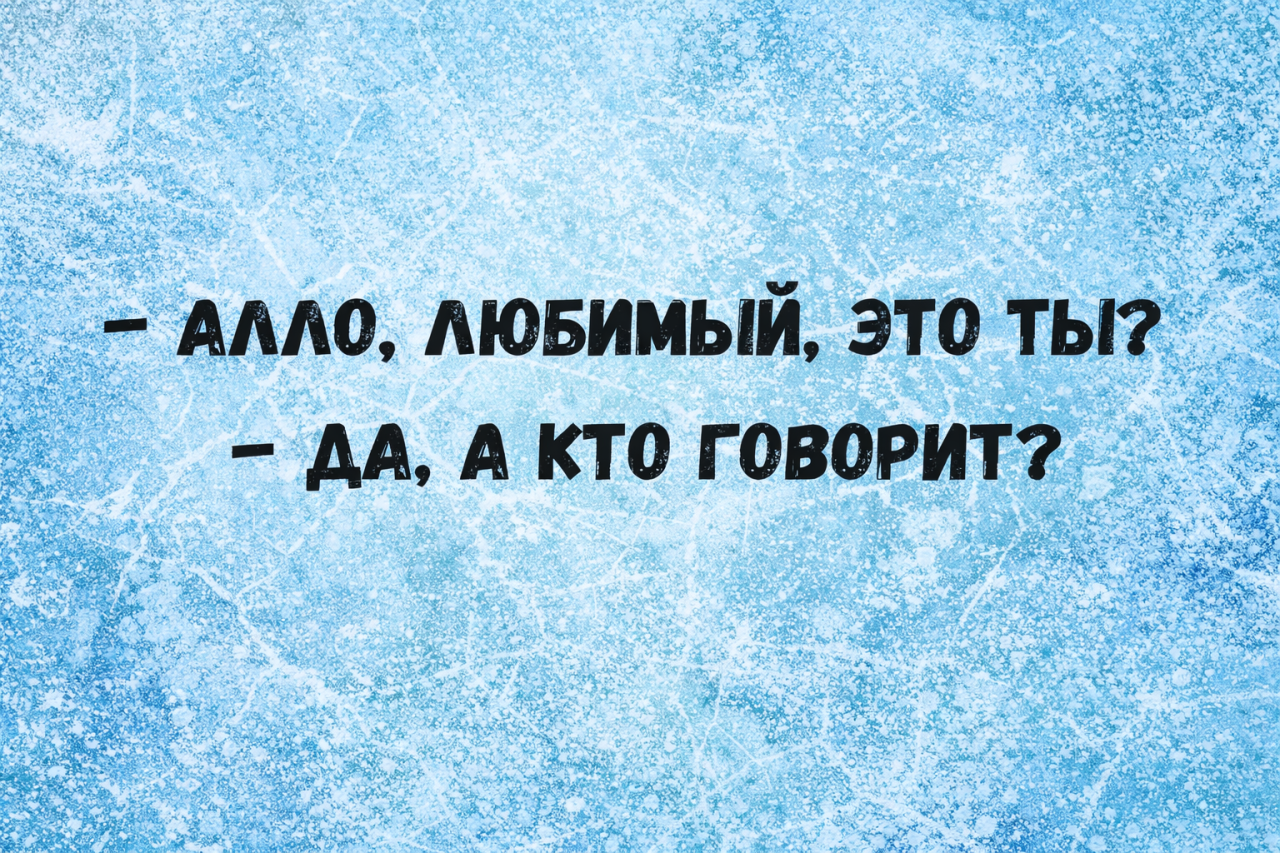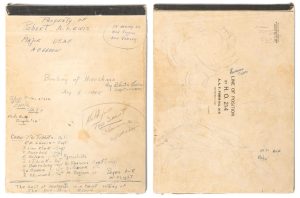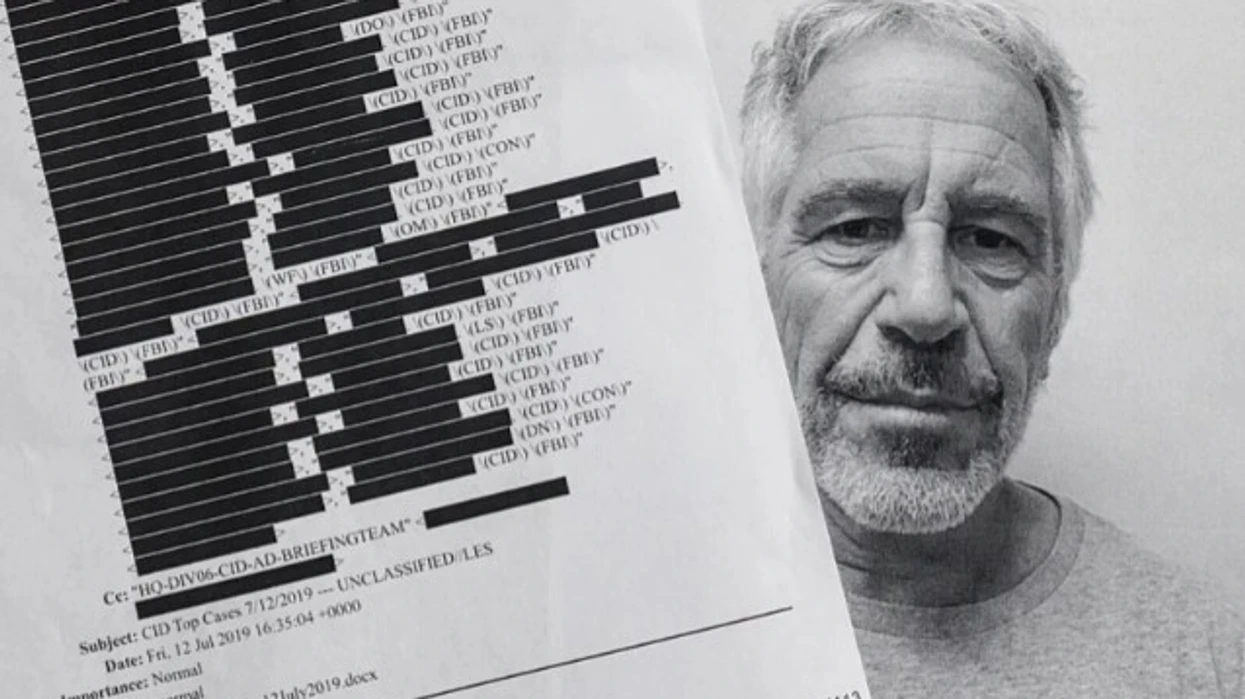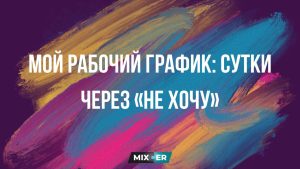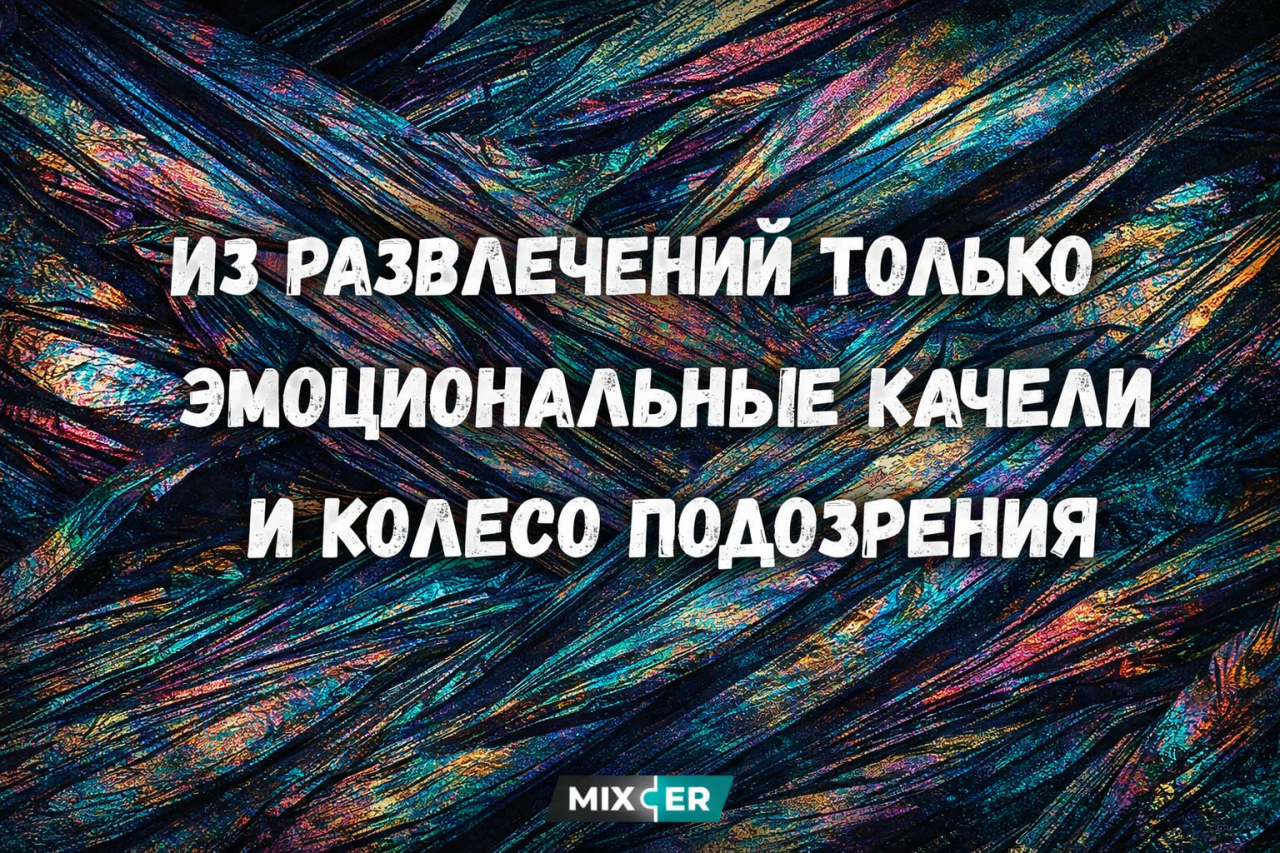Когда Рига только приходила в себя после Первой мировой войны, здесь нашёлся человек, который умел смотреть вперед -Эдуард Смильгис. Актёр, режиссёр и - что особенно важно - визионер. Потому что Смильгис точно знал: чего хочет и как хочет это реализовать. Редкая целеустремленность в наше время.
Итак, 19 ноября 1920 года, в здании на улице Лачплеша, 25, где когда-то работал Новый Рижский латышский театр, появился Театр «Дайлес». То есть, театр «красоты», «изящества», «эстетики». Но речь шла не о внешнем блеске - Смильгис видел в красоте силу искусства. Он мечтал о театре нового типа - честном, страстном, лишённом театральной фальши. И уже первая постановка задала тон на десятилетия: трагедия Райниса «Индулис и Ария».
Читайте нас также
Это была не просто премьера - это был манифест. О любви, свободе, самопожертвовании… словом, о том, на чём строится не только драма, но и само человеческое достоинство. Неудивительно, что первым литературным руководителем театра стал сам Райнис - поэт, философ, политик, человек, слова которого по-прежнему являются столпами латвийской культуры.
Театр «Дайлес» с самого начала шёл наперекор традициям. Это был своего рода «анти-балет», «анти-опера»: без позолоты, бархата и клише. Здесь ставили латышскую драму, западную классику, новаторские пьесы. От Аспазии и Анны Бригадере до Шиллера и Шекспира. Но всё - в духе поиска новой выразительности. Не случайно Смильгис выработал собственную формулу: «Ясность. Простота. И страсть».
В 1929 году театр начал развивать и музыкальное направление, что особенно ценится сегодня, когда театр не ограничивается рамками жанров. А тогда – довольно рискованный шаг. Но весь театра Смильгиса был, в какой-то мере, и построен на риске.
Кстати, интересный факт: Смильгис первым в Латвии начал формировать театральные студии, то есть профессиональные школы при труппе. Три поколения актёров, обученные именно в «Дайлес», впоследствии стали главными лицами сцены. Это было уникальное явление для 1920-30-х годов, особенно в молодой стране, которая ещё только искала свою культурную идентичность.
Смильгис руководил театром более 40 лет - с 1920 по 1964. И всё это время он стремился к главной цели: создать не просто сцену, а пространство для нового театрального языка. Но главное здание мечты так и оставалось на бумаге… до конца 50-х.
А теперь важный поворот: в 1959 году объявляется открытый архитектурный конкурс на новое здание театра. Идея была амбициозной: построить дом, в котором сцена, свет, звук, движение - всё станет частью художественного действия. Строить не просто театр, а, как сегодня бы сказали, инсталляцию из бетона, стекла и идей.

И вот в историю вступает женщина - Марта Станя, легенда латвийского модернизма. Автор проектов, которые и сегодня можно изучать как яркие примерыфункционализма. Вместе с коллегами по цеху - Якобсоном и Кандерсом она спроектировала и здание «Дайлес» и тот самый кинотеатр «Спартак». И вот она представила проект нового театра - с лаконичными линиями и воздушным пространством. Идея Стани победила. Но это было только начало большого драматургического акта.
Но давайте на секунду отмотаем назад. В Латвии XX века театр не был просто местом искусства. Он был способом самовыражения, сопротивления, сохранения идентичности. Но «Дайлес» с его бетонными фасадами, геометрией и внутренним пространством, напоминал скорее музей современного искусства, чем классический драматический театр.
И это было сделано сознательно. Одна из главных идей проекта: театр должен не просто обслуживать репертуар, а вдохновлять на него. Архитектура, свет, звук, залы -всё это должно было диктовать новое качество театральной игры. Как когда-то в 1910-х Бруно Таут и Вальтер Гропиус мечтали о «Gesamtkunstwerk» - «тотальном искусстве», где архитектор, художник, режиссёр и актёр работают как единый организм. И«Дайлес» стал попыткой реализовать эту идею в советской Риге - один только барельеф пламени на фасаде чего стоит! Работа скульптора Оярса Фельдберга стала культовой: абстрактное пламя, символизирующее искусство, горение, вдохновение - визуальнаяметафора всего, чем был и хотел быть театр «Дайлес».
И вот пройдены все препоны и 30 октября 1977 году «Дайлес» торжественно открывает свои двери. Торжественный «крестный ход» актеров, которые под фанфары и аплодисменты переезжали, а точнее, переходили из старого театрального здания в новое – до сих пор хранятся в архивах. Однако первые сезоны не только для труппы, но и для всего «бекстейджа» оказались крайне непростыми. Звукооператоры переобучались под новые масштабы, актёры работали с новыми схемами освещения и сцены, которая требовала особого ритма и особой интонации. Но постепенно пространство, конечно, обжили.
Важно отметить ещё одну деталь. Театр «Дайлес» всегда был площадкой для эксперимента. Даже в самые идеологически жёсткие годы здесь звучала поэзия Зиедониса, ставились пьесы Ионеско и Брехта, интерпретировались тексты Достоевского. Эстетика игры, которую заложил Эдуард Смильгис, позволяла театр делать современным даже при внешне классическом репертуаре. Смильгис сделал ставку на ритм, движение и структуру и… выиграл. Как бы сегодня сказали: стал «визионером перформативной среды».
Именно поэтому архитектура нового здания - не просто оболочка, а логичное продолжение художественной философии. И, возможно, именно из-за этого у «Дайлес»никогда не было простого репертуара. Это всегда были спектакли с вызовом: либо интеллектуальным, либо эмоциональным, либо социальным.
А уж театральное закулисье - отдельный мир, скрытый от зрителя, но определяющий всё. Именно там, в узких коридорах и гримёрках, рождалась и крепла дружба, случались драмы и чудеса. Там появлялись и легенды. Одна из них, например, о том, как однажды во время премьеры в “Дайлес” отключили свет во всём районе - и спектакль не остановился: актёры продолжили играть в полной темноте, подсвечиваемые лишь фонариками гардеробщиц.
Так что когда вы проходите мимо фасада на ул. Бривибас, 75, где всё ещё пылает абстрактное пламя скульптора Оярса Фельдберга, остановитесь и вспомните: за этими бетонными формами - десятилетия поисков, борьбы и вдохновения. За каждой ролью -человек, за каждым спектаклем - эпоха. И пока театр живёт - жива и сама идея театра как пространства свободы и смысла.