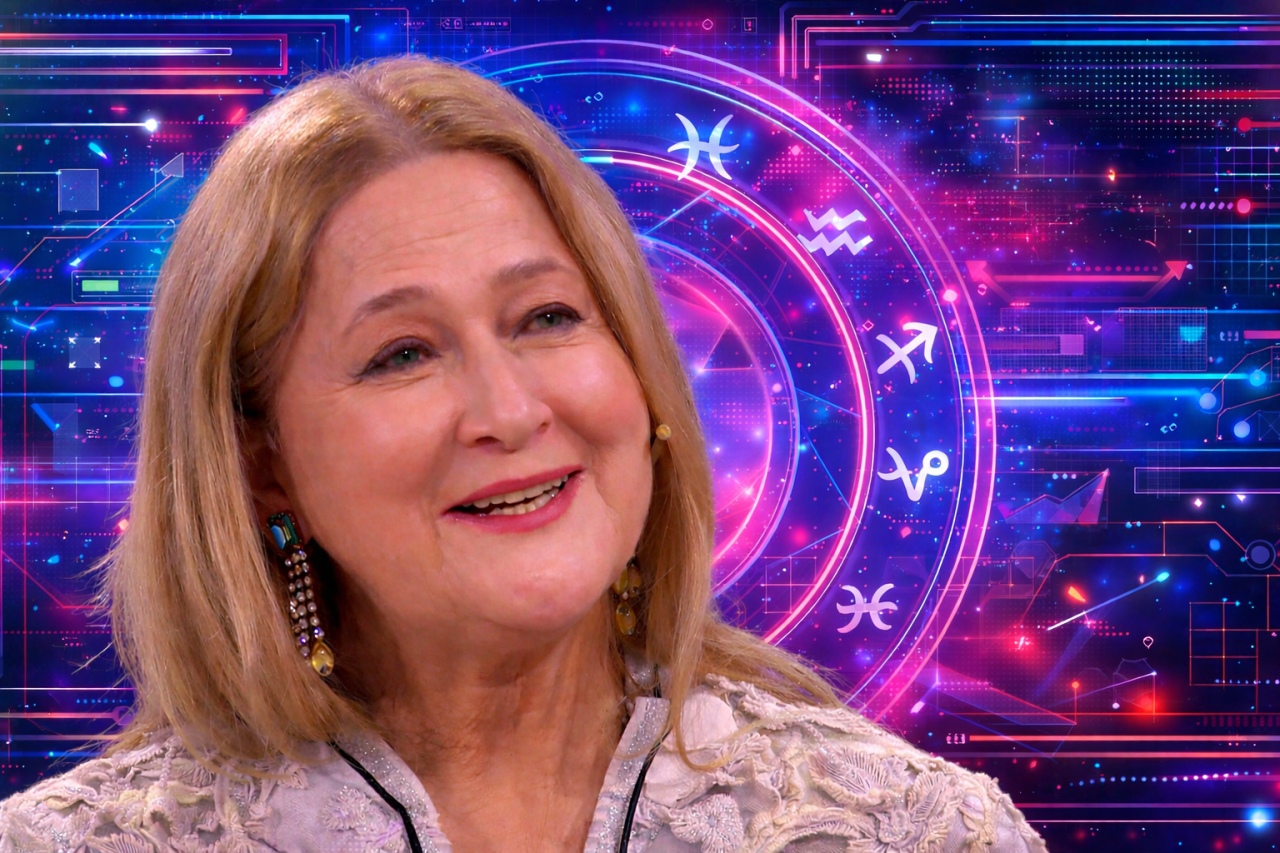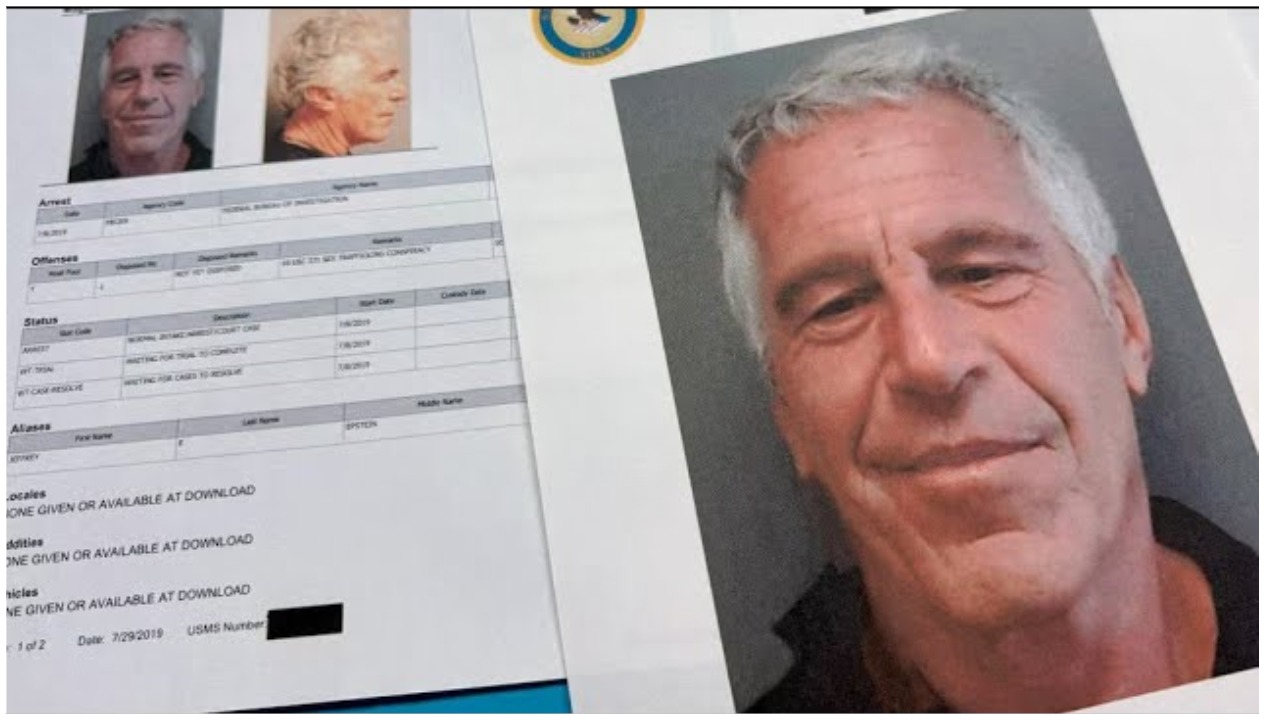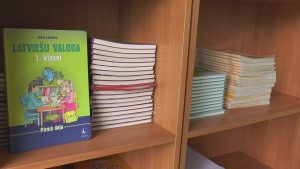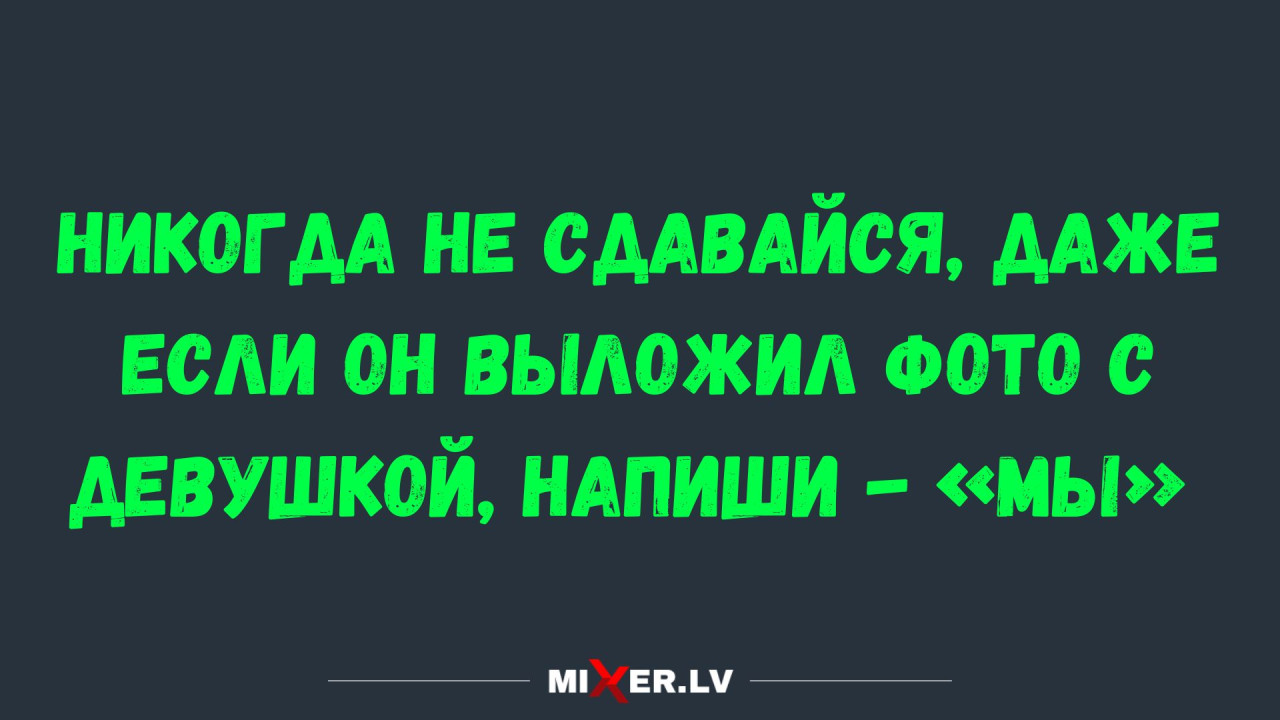Писатель и историк Джон Шемякин делится опытом диалога с собственным ребенком на неловкую тему.
«А ты знаешь откуда берутся дети?», - спросила у меня Елизавета. Я развязно захохотал. Через пять минут хохота, прерываемого паническим питьём холодного чая и беганья глазами по скудной обстановке квартиры, начал изложение своей версии.
Читайте нас также
Не очень просто мне сформулировать позицию по этому вопросу.
Тут дело такое. Шотландская составляющая требовала честно сказать, что я не знаю, откуда они берутся. И никто не знает! Схемы, изложенные в учебнике, шотландца не убеждают. Один сперматозоид не может победить крепость девы Шотландии.
Англичане только врут, что знают про появление детей! А ирландцы просто воруют детей у цыган! Это общеизвестные факты. Они подробно освещены в научной литературе.
Камчадальская составляющая тянула меня отвести ребенка на охоту, чтобы вместе рвать зубами дымящуюся печень и улыбаться белыми зубами.
Немецкая бабушка склоняла мой рассказ в сторону голубоглазых принцесс, чуть распустившихся бутонов роз, уколотого шипом пальца, белого платья, венков, нежного пения и внезапного танкового вторжения в Польшу по итогу.

Рассказал поэтому как смог.
Чётко и по делу.
Девять раз в рассказе было употреблено слово «возможно». Двенадцать раз оборот «с согласия родных». Пять раз - «невероятно». Два раза - «в строго установленные законом дни пятого месяца и месяца, следующего за пятым».
Краснел.
Потом Лиза сказала, что вопрос «а ты знаешь откуда берутся дети?» был не её вопросом.
«А чьим?» - довольно жадно спросил я, - «твоей молодой учительницы?»
Лиза стала смотреть на меня ещё более голубыми глазами.
Я шмыгнул.
«Я спросила, чтобы ты ответил, что ты не знаешь. И тогда я бы тебе всё рассказала!»
«Понятно», - сказал я.
«Рассказать?» - деловито сказала Елизавета.
«Утром!» - рубанул я.