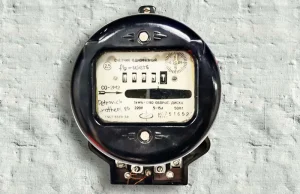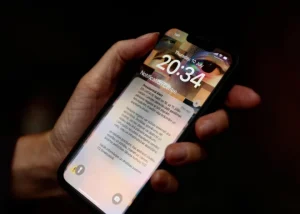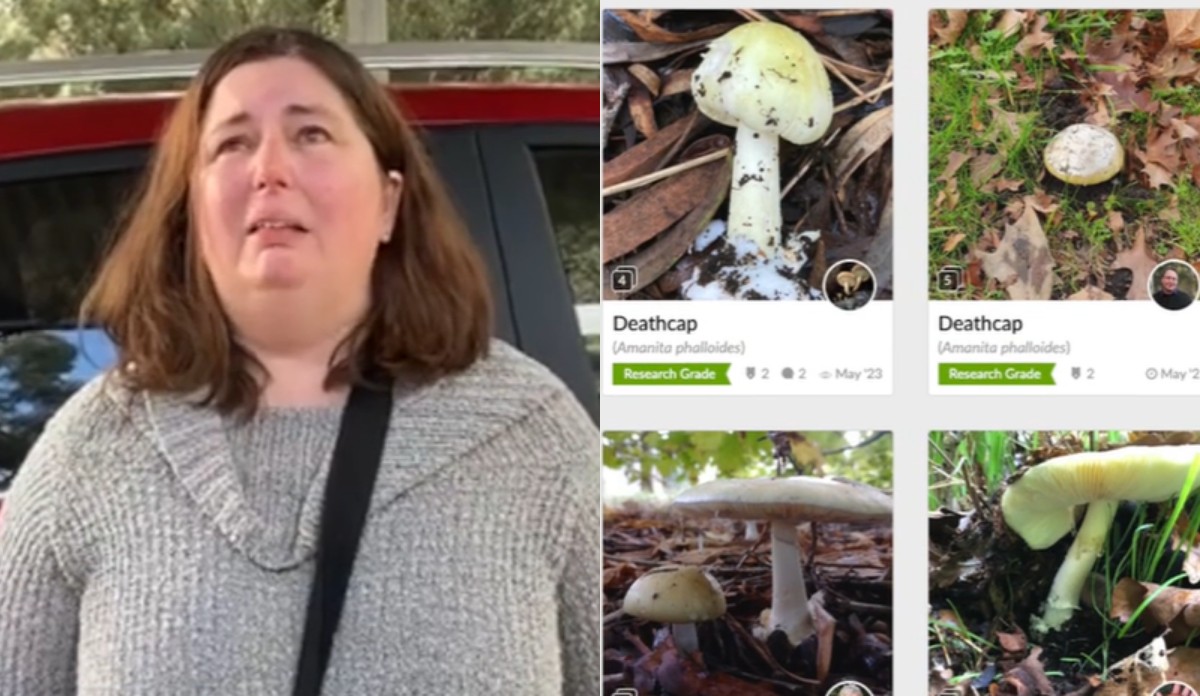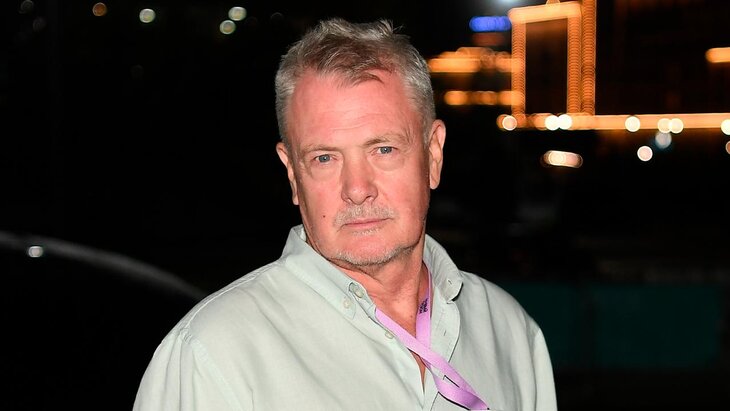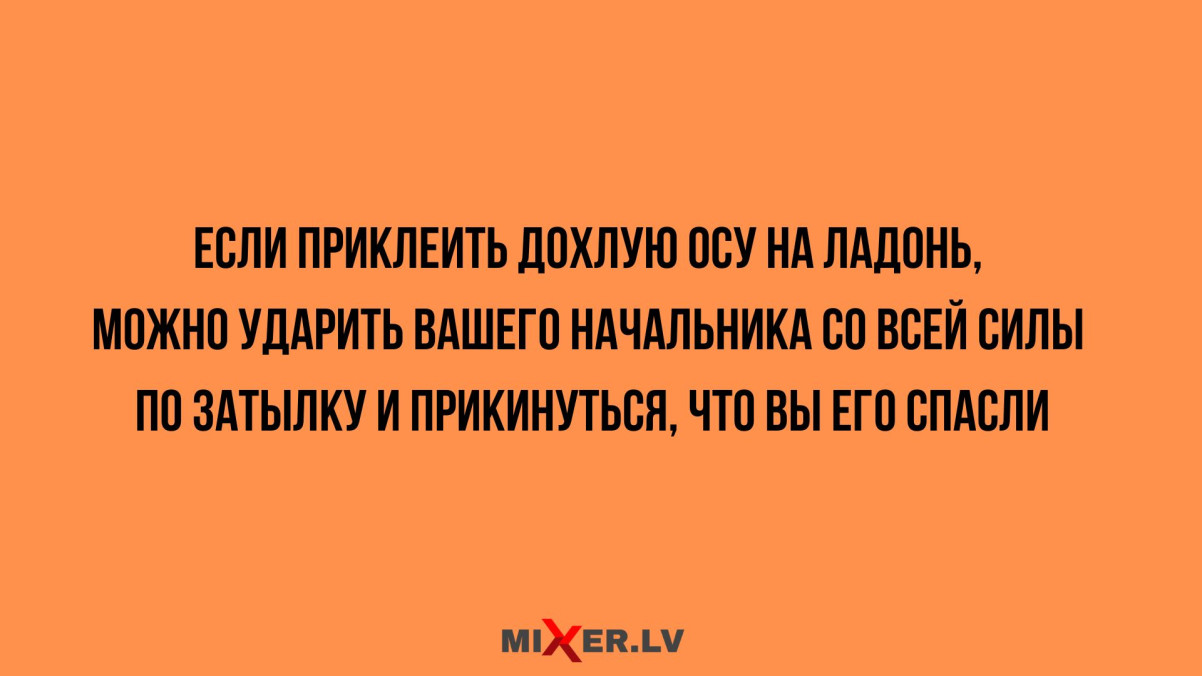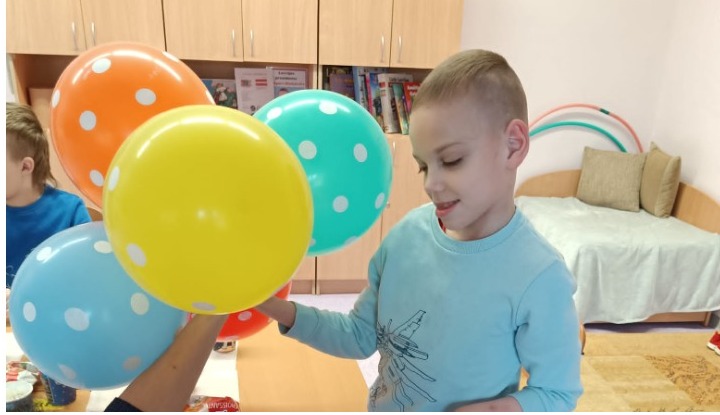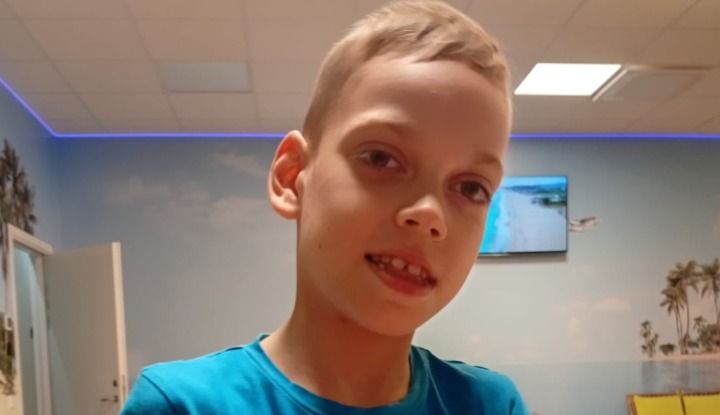Пока в других странах разногласия между представителями разных культур
возникают на религиозной, бытовой почве, а также в следствие других причин, в Латвии среди представителей латышской части общества на первый план по-прежнему выходит языковой вопрос.
Как пишет Latvijas Avīze, так считает социолингвист, ведущая исследовательница Латвийского музея оккупации, бывшая депутат Сейма Винета Пориня, которая вот уже более десяти лет анкетирует жителей Латвии, чтобы выяснить, каким был наихудший случай конфликта между проживающими в Латвии представителями различных национальностей.
Пориня в ходе своей исследовательской работы проводит опрос каждые четыре года, в ходе которого анкеты заполнили несколько сотен человек — в основном это были педагоги, представители школьных администраций и студенты первых курсов.
Примечательно, что в рамках подобных исследований в других странах ЕС респонденты тоже описывали ситуации, связанные с языком, но чаще всего дискомфорт испытывали те, кто не владеет госязыком на достаточном уровне – в основном мигранты. Тогда как в Латвии на дискомфорт при общении на латышском языке больше испытывают сами латыши.
В качестве примера Пориня привела описанный в одной из анкет случай, когда латыш работал в русскоязычном коллективе.
«Латыш страдал, но смирился и не говорил никому о своем дискомфорте. Это пример как дискриминации на рынке труда, так и подстраивания», — говорится в статье.
По словам Порини, тревожно то, что схожие ситуации жители Латвии переживали как в годы оккупации, так и в годы независимости Латвии.
Так, например, в 1973 году произошел случай в ныне Детской клинической университетской больнице: ребенок по-латышски попросил медсестру помочь встать с койки, но медсестра не поняла и вышла из палаты. В итоге, ребенок с кровати упал.
Схожий случай произошел в Даугавпилсской больнице, но в прошлом году. Там врачи говорят как на латышском, так и на русском языке, тогда как младший медперсонал нет. Пациенткой была второклассница, которая не учила русский. Хорошо, говорит Пориня, что сейчас есть мобильная связь и девочка созванивалась в мамой, которая по телефону переводила ей и таким образом происходила коммуникация между пациентом и медперсоналом.
Также, по словам Порини, нередки конфликтные случаи в магазинах во время общения покупателей с продавцами.
«Русские туристы, в случае, если продавец не знает русского, переходят на английский или на язык жестов. В свою очередь местные русскоязычные жители могут даже закричать, если не понимают по-латышски, так как считают, что это само собой разумеющееся, что все должны знать русский язык», — рассказывает исследовательница.
По словам Порини, не только в магазинах, но и в других сферах обслуживания клиенты зачастую указывают работнику, что тот не знает русского и жалуются на него работодателю. В то же время, по словам Порини, есть и позитивные моменты — в последние годы работодатели в таких случаях защищают своих работников, говоря «не бери в голову» агрессивных клиентов.
Пориня привела в пример еще один случай дискриминации на рынке труда: зарубежная латышка, эксперт по руководству бизнесом, переводчик в 1999 году переселилась на проживание в Латвии, надеясь найти работу в госуправлении. Хотела работать в Министерстве финансов. Однако была заранее предупреждена, что без знаний русского языка не будет принята на работу. В итоге, сейчас работает в Люксембурге.
_Фото: flickr.com_